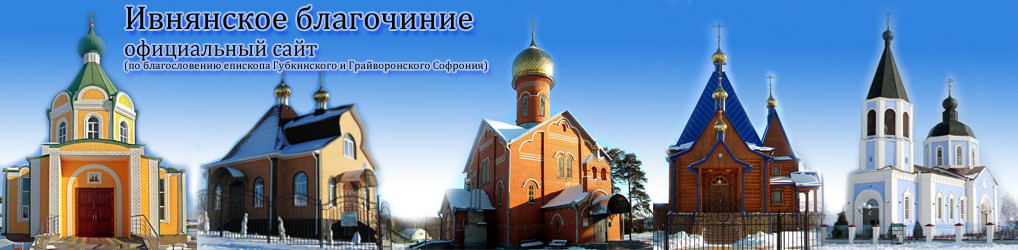Вот и подошло к концу лето. Любимое время года, подарившее, как всегда, много нового: незнакомые прежде города и старые друзья – храмы и монастыри, километры железнодорожных и автобусных маршрутов – и знакомые стёжки-дорожки в милых сердцу местах. Но главное – встречи с друзьями, которых не видела кого год, а кого и все тридцать лет, и новые лица, новые знакомства, новые узнавания. А порой и – потери, безвозвратные, невосполнимые.
Среди своих ежелетних путешествий по родной русской земле стараюсь не обойти один из её православных уголков – Оптину пустынь. Этими двумя словами называю я не только самый известный в дореволюционной Руси, а ныне возрождённый из руин монастырь – Свято-Введенскую мужскую пустынь. Для меня Оптина – огромная территория Козельской земли, вместившая в свои поля и луга и эту знаменитую пустынь, и «женскую Оптину» — Шамординский монастырь, и Спаса Нерукотворного мужской монастырь-пустынь в селе Клыково, и многочисленные источники с купальнями и ледяной на ощупь, но греющей душу и тело родниковой водой… Это и село Нижние Прыски, от которого до всех этих дивных мест – рукой подать: в хорошую погоду Оптинские купола украшают горизонт, а ветер доносит призывный звон колоколов. В этом небольшом ныне (а прежде знаменитым господской усадьбой, где останавливались на лето члены царской фамилии) селе я нахожу пристанище на время своего краткого (увы!), но почти ежегодного посещения оптинских земель. Здесь живут близкие мне люди, всегда готовые приютить меня, моих родных и друзей. Я уже не раз писала о них, но вновь и вновь кланяюсь с благодарностью Любови Дмитриевне Золкиной и её гостеприимному дому. Москвичка, она переехала сюда, поближе к Оптиной, вместе с мужем и двумя малышами-сыновьями в самом начале 1990-х, когда монастырь лежал в руинах. Зачем? – Чтобы молиться и по мере сил помогать восстанавливать былую красоту. Её супруг Лев Павлович обладал редчайшей в те годы профессией: он был церковным портным. Старые священники помнят, как трудно было в те годы сшить повседневную священническую одежду – подрясник и рясу, а богослужебную – так и вообще невозможно. Церковные ризницы были почти пусты, а сохранившиеся ещё с дореволюционных времён ризы бережно хранили на самодельных деревянных вешалках-плечиках особой величины и формы. Редкие ателье брались за пошив рясы, оформляя заказ как «мужское пальто». А ведь ещё нужны были богослужебные облачения для священнослужителей и для храмов, а ещё – облачения монашеские: параманы, клобуки, куколи, мантии, схимы… Их нужно не только шить, но и вышивать. И не просто под стрекот швейной машинки, а с благоговейной молитвой на устах. Так и стала молодая семья московского портного одной из первых, переселившихся на бескрайние оптинские просторы.
Я тоже помню это время: впервые побывать в Оптиной мне довелось зимой 1994-го. Зимняя дорога сквозь строй заметённых снегами сосен, первые возрождённые храмы среди былой разрухи, визг бензопил и дробь отбойных молотков у первых рядов кирпича возводящейся колокольни. Когда мы ехали в Оптину, за 18 километров от неё на трассе мелькнул указатель: «Шамордино» – и стрелка вправо. Знакомое слово заставило свернуть, и вот уже видны кирпичные стены огромного собора – увы, закрытого, полуразрушенного. Но рядом, в небольшом приземистом здании, нас встретил и храм – небольшая комнатка с простенькими иконами, среди которых две – в дивных, вышитых бисером ризах, и молодые монахини, взявшиеся за возрождение былой красоты и просящие у нас молитвенной поддержки в храмах нашей родной Белгородчины. Когда я вернусь сюда через десять лет, красавец-собор будет уже отреставрирован и открыт, а икон в чудных вышитых ризах в нём, стараниями насельниц, будет уже множество. Сама же обитель, основанная святым преподобным Амвросием Оптинским, вновь полнится монахинями, среди которых немало пожилых и престарелых: Шамординский монастырь – ещё и богадельня, приют престарелых монахинь.
Тогда, в начале 90-х, я ещё не знала семью Золкиных; с Любовью Дмитриевной я познакомилась много позже, когда уже не было в живых главы семейства, а подросшие ребята заканчивали школу. Небольшой, но очень уютный домик на верхней окраине села (оно расположено частью в низине, у быстро несущейся реки Жиздры, частью – на высоком холме) встречает цветником (можно бы сажать картошку, но как расстаться с такой красотой!?) и тремя комнатами, сплошь уставленными книгами и увешенными фотографиями. Вот – глава семейства: тонкое интеллигентное лицо; если бы не очки, можно спутать с последним российским императором, так похож! Обладая столь редкой и востребованной профессией, он мог бы, казалось, заработать семье на пожизненное содержание. Но, как это почти всегда бывает у людей, влюблённых в профессию, да ещё и по-настоящему верующих, работал Лев Павлович почти даром, и уж тем более не пытался взыскать «недоимки» с забывчивых должников. Умер он совсем молодым, от тяжёлой, но, увы, нередкой болезни. А жена Любочка так и осталась с двумя малышами в бревенчатом домике, в который её Лёвушка не успел провести воду и газ. Вот они, ребята, на фотографии рядом – зимой, в весёлых комбинезончиках, у колоколов вместе с монахами-звонарями. Звонарей уже тоже нет в живых, это оптинские новомученики иеромонах Василий, иноки Трофим и Ферапонт. Для нас – история, для старого дома в Нижних Прысках – кусочек жизни. Ах, как жаль, что Любовь Дмитриевна не может, не хочет записать свои воспоминания на бумаге, вот хотя бы об этих, обыденных (на её взгляд) встречах-разговорах с молодыми ребятами-монахами, над могилами которых сегодня возведена часовня, и теплятся в ней неугасимые лампады, горят свечи, служат панихиды, и идут и идут паломники, прося новомучеников помолиться о себе, о своих близких, о монастыре, о России. Когда в Пасхальную ночь 1993-го совершилось то злодейское убийство (все трое звонарей были заколоты маньяком-сатанистом кинжалом с гравировкой «666»), один из насельников Оптиной воскликнул: «Братья, братья! Как же мы живём, что Господь потребовал от нас такую жертву!?» Об этом тоже рассказала мне Любовь Дмитриевна, и как бы нужно, чтобы это её свидетельство прозвучало из первых уст. Как же мы живём!? Чем ближе к Богу – тем больше скорбей и искушений, а монахи – они ведь молитвенники за весь мир и – за весь мир жертвователи тоже. Некоторые старцы говорят, что мир наш будет стоять до тех пор, пока живы в нём бескорыстные монахи-молитвенники «о мире всего мира». А дальше – пришествие антихриста и конец земного существования. Потому-то так сильна ярость князя мира сего – диавола против монашествующих. Святые видели бесов воочию, во всём их безобразном обличье. Монахи и праведники подвергаются нападкам диавола через продавшихся ему людей. Миряне-христиане несут свой крест через терпение скорбей и болезней. Лев Золкин ушёл из жизни молодым. А вскоре заболела и его жена Любовь, такой же неизлечимой болезнью. Но ведь недаром оставила она Москву и не пожелала вернуться туда после смерти мужа, недаром отвергала ухаживания мужчин, рассудив, что лучше ей, по слову апостола Павла, «оставаться так», в честном вдовстве, жить ради детей. Перед лицом смертельной опасности – кинулась к знакомой старице – матушке Сепфоре.
Сегодня об этой праведнице и молитвеннице, прожившей монахиней в миру и лишь в конце своей стодвухлетней жизни поселившейся в разрушенной обители, написаны воспоминания, выпущен диск с фильмом. А тогда жила она незаметно в сельце Клыково рядом с Оптиной, в месте, определённом ей Самой Матерью Божией, окормляла молитвой и советом оптинских монахов и окрестных жителей и помогала строить Спаса Нерукотворного мужской монастырь. Не раз бывали у матушки Сепфоры и супруги Золкины. А теперь вот – кинулась к ней молодая вдова со своей бедой: «Матушка, детки маленькие – куда ж их?» Строго взглянула обычно ласковая старица: «А ну – говори свой главный грех!» Не задумываясь, сбросила Люба камень, давно тяготивший душу. А матушка набросилась на неё с палкой. По спине, по бокам, по животу – как говорится, по чём попадя прошлась палка, которую старица натирала маслом от лампадок, горящих у чудотворных святынь, смачивала иорданской водичкой, принесённой ещё её отцом из Иерусалима. Побила – ощутимо больно! – и сказала: «Ну, Люба, ещё раз покажись врачам и больше уж не езди к ним». Когда настал день очередного осмотра, врачи развели руками: от опухоли не осталось следа. И сегодня в домике матушки Сепфоры горит неугасимая лампадка, маслом от которой смотрительница-служительница помазывает всех, приходящих сюда. А вот и та самая палка в келье возле старинных икон. Бери, бей себя по больным местам, с молитвенным воздыханием к матушке. Ведь праведники – не умирают, и после кончины отзываются на наши призывы.
Выросли мальчишки Любови Дмитриевны, вылетели из родительского гнезда. А она – и поныне в своём старом домишке без удобств. Ежевечерне, в темноте уже, везёт большой бидон на колёсах за водой, а днём – готовит дрова на зиму, убирает старинный сельский храм, где много лет помогает на службах, навещает старших по возрасту и нуждающихся в её помощи подруг.
С одной из них несколько лет назад Любовь Дмитриевна познакомила меня. Ирина Николаевна Соловьёва-Волынская – старая интеллигентка дворянских кровей, искусствовед, архитектор-реставратор. С Любовью Дмитриевной у них схожая судьба: тоже москвичка, так же поселилась вблизи Оптиной, чтобы быть поближе к этому святому месту; так же посвятила остаток жизни нижне-прысковскому храму, в котором не только читала и пела на клиросе – недавно, уже на склоне лет, написала книгу о его истории. Жила Ирина Николаевна с младшей дочерью Наденькой, родившейся с болезнью Дауна. Когда Любовь Дмитриевна впервые привела меня в их дом, Наденька встретила меня, как родную: «Матушка Марина, мы Вас давно ждём!» И это было правдой. Эти вечные дети, в генетическом наборе которых – одна лишняя хромосома (а может, это у нас не хватает такой хромосомы?), вообще не умеют лгать, они всю жизнь такие, какими воспитали их в раннем детстве. В том, что Наденька выросла доброй, верующей, всегда готовой услужить, помочь, порадовать, — несомненная заслуга её матери Ирины Николаевны. Я привела в этот дом своего младшего сына-школьника, чтобы он прикоснулся к укладу жизни старой Руси: так слушались родителей, так спокойно беседовали за чашкой чая со старинными оборотами безупречной русской речи даже не в дореволюционной, а, казалось, в допетровской Руси. И Наденька, убогая Наденька, почтительно стоя за стулом матери, внимательно слушала наш разговор о судьбах России, о русской литературе и языке и изредка вставляла свои, очень разумные суждения.
Чуть больше месяца назад мы с сыном вновь побывали в этом гостеприимном доме, и вновь у калитки нас встречала Наденька. Не предупреждённая о нашем визите (а мы не виделись два года), она всплеснула руками в неподдельной радости: «Как же мы вас ждали!» И вот – телефонное сообщение: Ирина Николаевна умерла. Накануне отстояла литургию и причастилась Святых Христовых Таин (последнее время она редко бывала в храме – ей было уже 87 лет), а утром следующего дня, обойдя дом и сделав распоряжения, прилегла отдохнуть – и нашла христианскую кончину: безболезненную, непостыдную, мирную, такую, о которой на каждой службе вслед за священником просит каждый христианин, но которой, увы, удостаиваются ныне немногие праведники. Кончина её была светлой. И всё-таки нам, знавшим эту удивительную женщину, грустно и скорбно: одним местом на земле, где можно было отдохнуть душой, стало меньше… Наденьку заберут старшие сёстры, а дом со старой скрипучей мебелью – судьба дома пока неизвестна.
Но остаётся в старинном сельце Нижние Прыски Любовь Дмитриевна Золкина, познакомившая меня минувшим летом с ещё одной «переселенкой», решившей посвятить жизнь Оптиной. Матушка Серафима перебралась сюда из Кронштадта, здесь приняла монашеский постриг и пишет книги, одну из которых, составленную из трудов любимого ею батюшки Иоанна Кронштадского, подарила мне в нашу единственную пока встречу. Жизнь продолжается. И даст Бог, я снова увижусь с пленившими моё сердце Оптинскими землями и живущими на них замечательными людьми.
Марина Захарчук